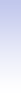Среди западных европейцев прочно укоренилось мнение о молодости России. Россия всегда рассматривалась на Западе как страна молодая или страна «новая». Что лежит в основе этого мнения? С одной стороны — наблюдения европейцев над процессом европеизации России, начавшимся при Петре Великом и продолжавшимся на протяжении XVIII и XIX веков. Считая этот процесс незаконченным, европеец невольно обращался мыслью к его началу, и это начало представлялось ему находящимся где-то недалеко во времени. Россия с такой точки зрения казалась страной, начавшей приобщаться к западной культуре после некоторого первобытного состояния, о котором у западных европейцев сложились зачастую самые туманные представления.
С другой стороны, в установлении подобного взгляда у иностранцев сыграло роль существование до некоторой степени аналогичного взгляда у самих русских, т. е. главным образом в среде так называемой русской интеллигенции XIX столетия. Познанию России русская интеллигенция училась не столько из своего собственного опыта, сколько из тех сокровищ, которые были накоплены русской литературой XIX столетия. Сокровища эти велики, и я не пытаюсь подвергать их критике или художественной переоценке. Справедливость, однако, требует сказать, что при всей исключительной одаренности, проявленной ею, русская литература XIX века не была вполне независима от влияний общих идей европейской цивилизации эпохи Просвещения, т. е. конца XVIII и начала XIX столетия. Именно эти идеи явились базой для русской литературы и определили ее традиции, хотя и в преломлении, соответствующем русским условиям.
Одной из основных идей этого момента европейской цивилизации был круг представлений, связанных с именем Жан Жака Руссо. В представления эти входило, как известно, сентиментальное возвеличение «естественных» отношений, установляющихся между человеком и природой, и в особенности между так называемым первобытным человеком и природой. Отсюда выводилось убеждение в существующей будто бы естественной правде и в некоторой, как бы естественной «святости» первобытной жизни на первобытной земле. Идеи Руссо на Западе, как известно, привели к созданию сентиментальных литературных изображений быта различных первобытных народов. Среди таких народов особой популярностью пользовались в европейской литературе начала XIX века североамериканские индейцы.
Пришедшие в Россию представления, связанные с идеологией Жан Жака Руссо, очень сильно содействовали созданию в русской интеллигенции традиции народничества. Русская литература издавна поверила в существование своеобразной мужицкой правды. Толстовское учение в конце XIX столетия является как бы кульминационным пунктом этой традиции, истоки которой лежат, однако, не на русской почве, а в круге идей западноевропейского просвещения, и прежде всего в том его моменте, который связан с именем Жан Жака Руссо.
Русская литература XIX века начала существовать как дворянская литература. Русское дворянство, уже приобщившееся полностью к западноевропейской цивилизации, оказалось отделенным пропастью от русского мужика, этой цивилизацией почти не затронутого вовсе. Что же оно видело по другую сторону пропасти? Видело ли оно народную Россию, насчитывавшую за собой целое тысячелетие исторического существования? На этот вопрос приходится ответить иначе. Русская дворянская литература, имевшая в своей основе общие идеи европейского просвещения, была склонна рассматривать народного человека не как человека, имевшего длинное историческое прошлое, а как человека, не имевшего никакого прошлого вообще. По мнению одних, этого народного человека надо было научить жить цивилизованною жизнью на европейский лад. По мнению других, этого не надо было делать и надлежало, напротив, оставить народного человека с его инстинктивным сознанием той правды жизни, которая является как бы ее естественным законом. В том и другом случаях русский народный человек рассматривается литературой как нечто подобное счастливому или несчастному туземцу. Понятия, верования, желания русского народного человека в литературе, созданной дворянством или интеллигенцией, истолковываются с точки зрения естественно-исторических условий, почти не принимая в расчет условия исторические.
Русская литература XIX века очень мало затронута интересом к истории. Пушкин в этом смысле составляет исключение. У Пушкина был живой и острый интерес к русскому прошлому. Пушкин его чувствовал, но за Пушкиным не последовали в этом смысле ни Тургенев, ни Достоевский даже, ни Толстой. Для Толстого русская история начинается где-то там, где начинается лишь дворянская русская история.
Русские писатели XIX века в огромном большинстве лишены чувства истории, если под историей подразумевать мысль о столетиях, протекших до создания империи Петра. Большую роль в этом сыграло то обстоятельство, что наиболее видные русские писатели XIX века выросли в имениях и в городах той полосы России, которая тянется от Оки к югу, переходя в степные пространства. Эта часть России лишена исторического пейзажа. В городах ее отсутствует древность.
Все эти тульские и орловские места, ставшие колыбелью русского писательства в XIX веке, являются с точки зрения русской истории в самом деле новой землей, еще недавно бывшей «диким полем», во всяком случае, землей некоторого нового поселения, не только дворянского, но и мужицкого. Пушкин, проведший значительную часть своей жизни на исторической Псковской земле, был в этом смысле в ином положении. Впечатления его псковских дней сыграли немалую роль в образовании присущего ему всегда ощущения русской истории в ее целом. Отношение Пушкина к русскому народу — это отношение к народу историческому. И если мысль его была обращена к будущим судьбам России, она была воспитана его пониманием сложной и разнообразной судьбы русского прошлого на протяжении веков.
Когда в начале XX столетия возродился интерес к историческому художественному наследству России, деятели этого движения нашли обширную область исторических фактов, неизвестных и не исследованных. Они должны были признать то странное обстоятельство, что богатая и одаренная русская литература XIX столетия прошла как-то мимо явлений, представляющих первостепенный интерес не только с точки зрения высших духовных ценностей мирового порядка. Открылись вдруг неожиданные обширные перспективы древнего русского искусства. Стало понятным, что древнерусская архитектура являет собою пример чрезвычайно оригинального и совершенно самостоятельного национального творчества. К изумлению широких кругов русской интеллигенции, воспитывавшейся на литературе XIX века, выяснилось, что древняя русская живопись от XII до XVII столетия создала ряд замечательных памятников в стенных росписях русских церквей и в украшающих эти церкви иконах. Этими прекрасными произведениями архитектуры и живописи русского прошлого мы имеем право гордиться так же, как гордится итальянец фресками эпохи раннего Ренессанса и француз или немец готическими соборами и готическими статуями, сохранившимися на германской и на французской земле.
Здесь необходимо заметить следующее. Люди, подошедшие к России через ее древнее искусство, то есть через одну из важнейших сторон ее исторического существования, не могли не прийти к совершенно иным выводам относительно характеристики русского народа, чем те, какие укоренились в русской литературе XIX века. Ведь эта литература, в конце концов, и является источником ходячих представлений о каком-то, якобы свойственном русскому народу анархизме с налетом мистики, об одаренности, сопровождающейся, однако, беспорядочностью, об отсутствии выдержки и устойчивости, о равнодушии к созидательной деятельности, оставляющей в жизни прочный след. Если бы все эти черты были действительно свойственны русскому человеку, то как согласовать тогда с этим характерные особенности древнего русского национального искусства?
Оба наших древних искусства, и архитектура, и живопись, отличаются как раз стремлением к равновесию. В обоих имеется непогрешимое чувство пропорции и тонкое понимание ритма. В обоих всегда наиболее удачной стороной является композиция, то есть подчинение художественного задания некоторой определенной закономерности. И русский архитектор, и русский древний живописец всегда глубоко логичны в разрешении поставленных ими себе художественных задач. И русский архитектор, и русский живописец всегда сдержанны в проявлении своих эмоций — всегда подчинены чувству меры. Древнее русское искусство страдает, скорее, избытком отвлеченности. В нем совершенно нет никаких элементов нервности или истеризма, какие встречаются, например, в западноевропейском барокко или в германском средневековье.
Каким же образом могло случиться, что свидетельство древнего русского искусства находится в явном противоречии с представлениями о русском народе, распространенными дворянской и интеллигентской нашей литературой XIX столетия? Кто прав в этом странном споре? Где истина?
Для решения этого вопроса необходимо обратиться к истории, то есть сделать то, о чем слишком мало заботилась русская дворянская и интеллигентская литература XIX столетия. Мы увидим тогда, что памятники нашего искусства не есть явление изолированное. Древнейший период нашей истории, так называемый киевский период, являет, например, картину широкую и гармоническую во всех ее частях. Киев XI и XII столетий был большим, богатым и культурным городом, одним из первых городов тогдашней Европы. Возвышались в нем десятки православных церквей, построенных очень своеобразно и талантливо русскими архитекторами. Десятинная церковь, собор Св. Софии, главный храм Печерского монастыря были украшены драгоценными мозаиками наподобие константинопольских церквей того времени. На одной из площадей стояла античная бронзовая квадрига, привезенная из Корсуня и напоминающая ту, которую венецианцы поставили около этого же времени на соборе Сан Марко. При дворе киевского великого князя, находившегося в родстве со многими коронованными семьями Европы, процветала любовь к знанию, к книжности. Около 1050 года было положено начало русской литературе, и этот ее момент отмечен речами Илариона, заставляющими сказать, что она шла впереди, например, тогдашней литературы французской. А Иларион был не один! Он обращался к просвещенному русскому читателю того времени, к тому, как он выражается, «кто отведал досыта радости познания». Такие же читатели могли быть в Киевской Руси не только среди мужчин, но и среди женщин, ибо дочь князя Всеволода, говорившего на пяти иностранных языках, Анна, основала школу для русских девиц. XI век дал «Русскую правду» Ярослава и замечательные по разнообразию сюжетов сборники Святослава. В XII столетии появляются русские летописи, за сто лет до того, как появился первый французский летописец Вильардуэн. К концу этого века относится гениальное и непревзойденное «Слово о полку Игореве». Что это поэтическое произведение не было единственным и что многие другие не дошли до нас, мы можем заключить по существованию замечательного отрывка XIII столетия, содержавшего повесть о татарском нашествии и называющегося «Слово о погибели Русской земли»...
Таким образом, поставленные в общеисторическую перспективу памятники древнего русского искусства, введенные в среду современных им литературных вкусов и интересов, не являются каким-то непонятным феноменом. И если это приложимо к киевской эпохе, то это же может быть сказано и о других периодах русской истории. Обратимся, например, к тому замечательному моменту русской исторической жизни, каким был конец XIV столетия. Величие Новгорода достигло тогда своей вершины. Новгородские летописи не успевали отмечать строительство новых церквей. Новгородские архитекторы создавали тогда совершенно особенный тип православного храма с восьмискатным покрытием. Неподалеку от Новгорода, во Пскове, другие архитекторы уже шли к оригинальнейшему и талантливейшему, чисто русскому разрешению конструктивной проблемы, которое через сто лет привело к созданию русской шатровой каменной церкви в Московской области, но, вероятно, не без участия гениальных псковичей. Одновременно с этим новгородские церкви расписывались фресками, украшались иконами. До сих пор Новгород хранит замечательные произведения и остается русской Флоренцией, как остается Псков русской Сиеной. Работали в его стенах тогда не только многочисленные артели русских живописцев. Выписывались туда и константинопольские мастера. Таким был, например, Феофан Грек, работавший сначала в Царьграде и в генуэзской Кафе, а потом приехавший в Новгород и приглашенный в Москву, где расписывал он фресками кремлевские соборы, где украшал он миниатюрами книги, исполнял портреты и даже, по старинному свидетельству, написал для князя Владимира Андреевича «в каменной стене град Москву».
Находится ли эта грандиозная художественная деятельность, которая выдвинула в начале XV столетия фигуру величайшего живописца Андрея Рублева, в противоречии с общим историческим содержанием той эпохи? Мы знаем об умственном движении в Новгороде во второй половине XIV века, о появлении там первых идей рационализма, о возникновении сект, отражавших в русской обстановке те же тенденции, которые свойственны были на Западе предшественникам Реформации. Следующее столетие открыло глубокую полемику по вопросам духовного знания просвещенных людей того времени. Общенациональный подъем охватил русскую землю, стремившуюся освободиться от татарского ига. Дело святого Сергия Радонежского шло рука об руку с делом великого князя Московского, объединившего русские рати на поле Куликовской битвы.
Русский язык, русская мысль, русское православное сознание широкой волной распространились на Западе во второй половине XIV века и в последующем столетии. Лишь сравнительно в недавнее время замечательный исторический эпизод Литовской Руси привлек внимание наших исследователей. Русская культура наполнила своим содержанием возникшее в XIV и XV веках литовско-русское государство. Русский язык был в нем государственным и литературным языком. На этом языке был написан литовский юридический статут, который явился позднее одним из важнейших источников Судебного уложения царя Алексея Михайловича. На русском языке происходили прения в литовских сеймах, являвших аналогию средневековому английскому парламенту. На этом языке велись и протоколы тех совещаний, которые привели к установлению Люблинской унии, соединившей Литву с Польшей и оторвавшей ее от русской культуры.
Но даже когда этот отрыв совершился, не переставали проникать русские культурные влияния в литовские земли. А вместе с литовскими вельможами и духовными лицами проникали они и в саму Польшу. Русские мастера украсили в свое время фресками собор в старинном архиепископском польском городе Гнезно. Русские росписи XV века до сих пор существуют в Супрасле близ Белостока, в Сандомире и в Люблине. Они до сих пор видны в Кракове в капелле Святого Креста над гробницей короля Казимира Ягеллончика.
Таков замечательный пример русской культурной «экспансии» в XV веке. XVI век видел распространение русской культуры на Восток, шедшее вместе с распространением энергического государственного действия. Это государственное действие выкристаллизовалось в политике московских царей, одновременно расширявших свои владения за счет восточных царств и искавших с оружием в руках выхода к Балтийскому морю. Если мы не находим соответствия между ходячими представлениями о русском народном характере и существенными чертами русского национального искусства, то найдем ли мы эти соответствия в государственной жизни, в политике Московского государства? Едва ли история знает другой пример, где до такой степени, как в Московской Руси, независимо от смены царей и правителей, все было бы подчинено на протяжении ряда веков одной чисто логической идее территориального приращения и искания выхода к морю. Когда вышел первый английский перевод истории Ключевского, не помню теперь уже, какой именно, английский критик заметил, что русская политическая история московского периода является самой сухо-последовательной и самой логически-неумолимой политикой из всех, которые знала тогдашняя Европа. О да, можно упрекнуть московских царей в жестокости, в подчинении личного и человеческого начала началу государственному, но их никак не упрекнешь в непоследовательности, в неустойчивости, в излишней впечатлительности, в легкой забывчивости, то есть во всех тех недостатках, которые наша литература XIX века зачислила, так сказать, за русским человеком!
Какое огромное мастерство в умении достигать огромных целей с малыми сравнительно средствами выказано в завоевании Сибири Москвой Иоанна Грозного. Москва чрезвычайно искусно воспользовалась торговой энергией Строгановых и казацкой удалью сподвижников Ермака. Несколько сот храбрецов добыли Сибирь для московского царя. Они сделали в XVI веке то же самое на границах Европы и Азии, что совершили Кортес и Писарро в древних империях Америки. Разница здесь только та, что о воинских подвигах Ермака и его сподвижников мы знаем, что никаких жестокостей не совершали люди царя Иоанна Грозного в Западной Сибири, которые напомнили бы нам то, что произошло в Мексике и Перу. Не сказалось ли блестящее политическое и дипломатическое искусство Москвы в том, что взятый в плен сын сибирского царя Кучума, царевич Маметкул, был встречен с почетом в Москве и принял участие в рядах русских войск в Ливонской войне, которую вел царь Иоанн Грозный?
Таковы свидетельства русской истории. Если исходной точкой, если путеводной нитью взять памятники русского искусства, мы найдем соответствие им в русской литературе, и в движении русской мысли, и в русском государственном деле. Мы придем, переходя от одной эпохи к другой, от одного исторического момента к другому, к общему понятию о древнерусской цивилизации. Мы приобретем ощущение чрезвычайно долгой исторической жизни России. Свидетельство искусства в данном случае безошибочно. Не сказано ли раз навсегда, что коротка жизнь человека и долог век искусства? Возраст России определяется долготой этого века!
Русская литература XIX столетия в значительной степени прошла мимо исторической русской цивилизации, потому что это была православная цивилизация. Среди русских писателей были гениальные истолкователи мистической стороны православия, как Гоголь, Достоевский, Константин Леонтьев. Но лишь в немногочисленных и стоявших сравнительно в стороне от общего движения литературы писателях, как, например, Лесков, отразилась другая, историческая сторона русского православия. Русский национальный быт был в основе своей православным бытом. Часто упрекают православие именно за то, что оно «обросло бытом». Но в этом и заключается его сильная национальная сторона. Ибо ведь и в материальных частях быта заложены источники положительного творчества. Поднимаясь же на ступень «душевного обычая», определяет он собою и уклад духовной жизни, и психологическую характеристику народа.
Православная традиция провела в конце концов Россию через все испытания. Она победила татар на Куликовом поле. И она помешала России распасться и погибнуть в Смутное время. Она двинула на спасение Москвы тогда от захвативших ее людей, пришедших с юга, из «дикого поля», крепкие и стройные северные сельские и городское ополчения. Подсознательная мысль об этой основной спаянности русского православного быта с русским национальным историческим началом живет в нас во всех. Иногда мы сами не замечаем, что принадлежим и до сих пор к традиции, определившей древнюю нашу православную цивилизацию. Но в иные моменты эта принадлежность сказывается. Русская эмиграция, очутившаяся сейчас за границей, повсюду, где бы она ни находилась, бережно и благоговейно относится к Церкви. В Париже создается 15 или 16 православных храмов, основываются общины, монастыри. И, однако, в русской эмиграции многочисленнее всего как раз те слои русской интеллигенции, которые казались еще недавно более всего равнодушными к церковной жизни. Само собой разумеется, что тяжелые испытания, пережитые нами, обратили многих из нас к Божественному Промыслу. И все же не только этим объясняется указанное явление. Русский человек, оказавшийся в эмиграции, держится церкви не только как духовного своего прибежища, но и как прибежища национального. Тем самым на опыте своей ежедневной жизни подтверждает он нашу всеобщую национальную принадлежность к великой православной цивилизации. И тем самым определяет русское сознание свой исторический возраст. Ибо возраст России — это возраст Восточного Христианства на русской земле.