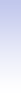Оппозиция теории и практики является общепринятой, хотя, допустим, и не общепонятой. С тем большим удивлением мы обнаружили, что в этот спор вмешивается "третья сила". Недавно удалось ознакомиться с ранними выступлениями выдающегося исследователя масс-медиа М. МакЛюэна, в которых он обрисовывает схему многовековой борьбы между двумя разновидностями познания действительности.
Маршалл МакЛюэн (1911-1980) - известный канадский исследователь масс-медиа, автор спорных, и в то же время классических книг "Галактика Гуттенберга" (1962 г.) и "Понимание медиа" (1964 г.), профессор католического факультета Торонтского Университета.
МакЛюэн разделяет общую "теорию" на два чистых типа: диалектику и риторику. Если под диалектикой он имеет в виду знакомое всем умозрение, то риторике он дает совершенное новое истолкование и значение. В своих ранних статьях 1944-1945 гг. он объявлял риторику и диалектику не абстрактными конструкциями, а реальными противоборствующими течениями, которые боролись друг с другом на протяжении тысячелетий. Полем этой битвы наш автор объявляет не только философию и науку, но главным образом государство, общество, политику и образовательную систему.
На стороне диалектиков у него выступают: Сократ, Платон, Аристотель, средневековые схоласты, Фома Аквинский, то есть те, кого обычно считают чистыми философами. На стороне риториков – ораторы, грамматики, "энциклопедисты": Цицерон, античные софисты, Эразм Роттердамский, Томас Мор, Френсис Бэкон, Вольтер, американские отцы-основатели. Первые – то есть "диалектики" - предаются теоретизированию и доказывают отвлеченные истины, чтобы быть правыми в идеальной сфере абстракции. Вторые – "риторики" - ставят целью воспитать гражданина с универсальным сводом знаний в голове, и для этого употребляют убеждение с конечной целью в виде установления справедливого порядка в обществе.
Иными словами, М. МакЛюэн противополагает абсолютную догматическую теорию (умозрение совершенных истин) – риторике, как средству по научению истинам убедительным лишь риторически. То есть это даже и не истины, а лишь удачные средства повлиять в верном направлении на реальную политическую и общественную жизнь. Философия, при этом, якобы ведет к подчинению личности интересам коллектива (кто читал какие-либо сочинения МакЛюэна, не будет удивлен такому – и любому другому - парадоксу), поскольку "теоретики" считают, что надо сделать справедливым общество, и только тогда человек станет справедливым. А риторика и красноречие, согласно МакЛюэну, создают совершенную автономную личность, которая способна навязать обществу благой порядок.
Наш автор, разумеется, отождествляет самого себя со вторым – риторическим - направлением, к которому относит и некоторых Западных Отцов Церкви, в частности, блж. Августина и блж. Иеронима. Если анализировать метод М. МакЛюэна, то видно, что он не пускается в обоснование своей конкретно-исторической конструкции, да она бы этого и не выдержала. Его устраивает ее убедительность в чисто предварительном плане. Поэтому он откровенно называет симпатичный ему подход английским словом forensic, то есть наружным, внешним. Исследователь не ищет истину в ее идеальной чистоте и отдельности от всего прочего, а более всего заботится о создании подходящего сосуда для истины, стремится дать наглядную схему рассмотрения материала. Истину в этом сосуде можно легко передать другому в неповрежденном виде, но ощущая эту истину лишь сквозь стенки сосуда, и не соприкасаясь с ней непосредственно.
Мы готовы согласиться, что сама эта конструкция, и метод, каким написаны все позднейшие исследования МакЛюэна – являются именно риторическими. Он разделил всю историю мысли на два направления, и это в самом деле удобно и наглядно. Но если мы станем искать правду во всей полноте, то мы никогда не обнаружим в античности или у Святых отцов именно указанные им тенденции.
МакЛюэн предлагает наглядную, и убедительную исключительно своей наглядностью, схему, в которую он вмещает, признаемся, совершенно правильные составные части. В его схеме содержится немало парадоксов, которые тем не менее не разрушают ее. И главный парадокс состоит в противопоставлении диалектики и риторики, которые на самом-то деле расположены строго иерархически, и риторика, как практическое умение, подчинена диалектике, и нисколько ей не соперница.
Если вспомнить объяснения Аристотеля, то диалектика исследует то, что познает философия. То есть это своего рода наука, хотя и служебная по отношению к философии. Риторика же является умением, искусством убеждать, излагать материал удобным для человеческого ума и памяти образом. Никакого противостояния здесь не может быть. Но что является историческим фактом, так это борьба философии с софистикой, которая отразилась в диалогах Платона, в том числе в замечательном своим юмором "Евтидеме". Диалог "Софист", например, прямо-таки посвящен комически-серьезному выяснению того, кто такой софист, и относится ли он к охотникам или к рыбакам, к охотникам за ручными животными или дикими.
Философы бескорыстно искали и находили Истину, и безвозмездно ею делились с учениками. А софисты за плату предлагали свои услуги по воспитанию любого в делах благочестия, мудрости. Именно софисты объявляли о том, что способны научить красноречиво выступать в судах и в народных собраниях. За высокую плату они выступали в судах вместо заинтересованных лиц, как это сегодня делают адвокаты. С такого рода специалистом мы встречаемся в Апостольских Деяниях, когда интересы иудейских старейшин представляет "некоторый ритор Тертулл" (Деян. 24:1), который произносит речь на латыни перед римским судом над Апостолом Павлом.
Так что здесь МакЛюэн прав фактически, когда говорит о софистах, как (в отличие от философов) активно участвующих в общественно-политической жизни. Но он нигде не указывает, в чем состояло коренное различие между философами и софистами, и это не случайно. В системе уравнений МакЛюэна отсутствует отсылка к истинности или ложности утверждаемого. А только в этом и состоит различие между диалектическим и софистическим методом. Аристотель определяет: "Софистика и диалектика занимаются той же областью, что и философия, но философия отличается от диалектики способом применения своей способности, а от софистики - выбором образа жизни. Диалектика делает попытки исследовать то, что познает философия, а софистика - это философия мнимая, а не действительная" ("Метафизика"). Противоречие здесь моральное – "в образе жизни", и реальное – софистика есть лже-философия.
Поэтому Платон в "Софисте" называет софиста "обладателем какого-то мнимого знания обо всем, а не истинного". В конце же, разъяв глупость и обман софистики, Платон дает ей следующее определение: Это "основанное на мнении лицемерное подражание искусству, запутывающему другого в противоречиях, подражание, принадлежащее к части изобразительного искусства, творящей призраки с помощью речей выделяющей в творчестве человеческую часть фокусничества".
Софистические аргументы основаны на лжи и созданы для обмана слушателей. Так что в корне борьбы между философией и риторической софистикой была не культура или история, не влияние или отказ от влияния на общество, не абстракция или воспитание гражданина – в центре стоял вопрос только об истине, и ни о чем другом. Всякое же сопоставление, где в качестве члена выступает умозрение об истине, превращается в рассуждение о добре и зле, независимо от того, с чем истинное учение сравнивают: с риторикой, политикой или культурой.
Задача здравой философии состоит в том, чтобы искать и находить истину в отдельности – но не в отдельности от всего мира истин, а в полном отвлечении от мира большой и мелкой лжи. И поэтому из источника истины мы должны испить сами, и лишь во вторую очередь заботиться о передаче Истины другому.
Здесь очень показателен пример Блаженного Августина, который искал способ изложить схему бытия с Христианской точки зрения, и нашел его. И примером здесь является отнюдь не "Христианское учение", где излагаются правила церковного красноречия, а основной труд Святого отца – "О Граде Божием". Будучи Христианским учителем, блж. Августин искал и нашел нечто большее, нежели "схему расположения материала" – саму истину, как она действительно, а не риторически, разворачивается перед глазами Церкви и ее членов.
Блж. Августин описывает историю человечества, как она протекала от создания мира, через грехопадение, через Первое Пришествие, Спасение Жертвою Христовою – ко Второму Пришествию, и загробному блаженству праведных и праведному наказанию грешных. И он обнаруживает не одну историю, а две – историю Града Божия – Церкви, и историю града человеческого. Да, это можно назвать "схемой", но эта схема неотрывна от Истины, содержащейся в Священном Писании. По этой причине в труде блж. Августина мы не обнаружим противоречия между учением в его отвлеченности и в его историческом проявлении. Ведь для всех ясно, что суть Христианства – в догматической Богооткровенной Истине, и потому постигаемой только через веру. И никому не приходило в голову отличать Христианскую проповедь от Христианской догматики – пока не возникли ереси новейшего времени, коренящиеся в радикальном протестантизме и атеизме.
Св. Василий Великий ставит в один ряд пророчество – этот "великий и первый дар, требующий души тщательно очищенной" – и "второй после этого дар, требующий также немалого и нелегкого тщания - вслушиваться в намерение вещаемого Духом, и не погрешать в разумении возвещенного, но прямо к этому разумению вестись Духом, по домостроительству Которого пророчество написано, и Который Сам руководствует разумы приявших дар ведения... И это так важно, что поставлено в числе угроз Господних - отнять от Иудеи пророка, и смотреливого, и дивного советника, и разумного послушателя (Ис. 3:3-2)" ("Толкование на пророка Исаию"). Следовательно, недостаточно принимать Истину совне, без внутреннего уверения и принятия. И поэтому Христианское знание и сознание ни в какой мере несовместимы с предварительным и приблизительным знанием "всего обо всём".
Развивая эту очевидную мысль, мы готовы подвергнуться упреку в том, что говорим сущие банальности.
Истина настолько очевидна, что ее можно не искать. О ней можно вообще не говорить, как мы и поступаем в вопросах самых высоких и последних истин. Но некоторым таинственным образом вся человеческая история представляет собой беспрерывный разговор об истине, и она поэтому как бы даже не имеет практического значения. Мы имеем в виду тайну человеческой истории и тайну человеческой личности, которая состоит в том, что жизнь человека и всего человеческого рода не может продолжаться без Истины и без фундаментально верного отношения к Истине. Мы не знаем, почему человечеству нужна истина. Она требует нашей веры в себя, не снисходя до такого рода объяснений.
Не получив этих объяснений, человечество последних времен приходит к мысли о ненужности истины. Уже в пресловутую эпоху Возрождения стремились найти истину в конечной инстанции, и для ее постижения применяли противозаконные антихристианские средства: для чего употребляли и магию, и аморализм. В следующую эпоху – которая продолжается до сего дня – по прекрасному выражению Н. Хомского: "Целью стала понимаемость теорий, а не мира — разница значительная, она вполне может приводить в действие совсем другие способности разума, это еще, возможно, когда-нибудь будет темой для когнитивной науки... эти перемены «явились изложением нового понимания науки», при котором целью становится — «не искать конечных объяснений», укорененных в принципах, которые нам представляются самоочевидными, но найти самое лучшее теоретическое объяснение, какое только сможем, для экспериментальных и опытных феноменов" ("О природе и языке").
_________
Мы даже не можем до конца понять, чем так привлек МакЛюэна именно герой "цицероновского" типа и стиля: правовед, политик, оратор, обладающий универсальными знаниями. Как вдумчивый филолог и аналитик может восхищаться способностью говорить что угодно на любые темы – неотъемлемая принадлежность любого софиста! – это выше нашего понимания.
Софисты хвастаются перед Сократом:
- Нет ничего, чего бы мы не умели.
- Но,- спрашивает Сократ,- вы только теперь всё знаете, или вам всегда всё было известно?
- Всегда,- отвечает софист.
- И когда детьми были, и даже новорожденными, вы тоже всё знали?
Оба и в один голос подтвердили это (диалог "Евтидем").
И ничуть не утешает то, что эта способность знать, говорить и руководить людьми приписывается лишь классу политиков и идеологов.
Вместе с тем, МакЛюэном весьма точно противопоставлены энциклопедизм и знание отдельных предметов, то есть знание внешнее, наружное (и прямо скажем, поверхностное) – и знание предмета. Эти два типа знания существуют, но они, конечно, не составляют чистых типов и направлений мысли.
Ведь диалектика – способ рассуждения, изложения и доказательства – это и есть Сократ и Платон, установившие саму возможность давать определения вещам, исходя из их сущности. Это и есть искусство убеждения, но не как автономная наука, а как то, что не отличается от убеждений говорящего и от хода его мыслей. И таким образом идет спор не о методе – теоретическом или риторическом – а о самой истине или ложи, как сути изложения или размышления.
Знание о предмете и изложение этого знания с тем, чтобы оно оказало научающий эффект – не только не противоречат друг другу. Они составляют одно целое, и это целое может быть рассечено, но не так, как полагает МакЛюэн. Отсекает их друг от друга ложь, а соединяет правда. Для классической древности диалектика – способность излагать учение об Истине в верных силлогизмах – противополагается софистике, как изложению лжи с помощью ложных и обманчивых умозаключений. А раз так, то не получается объединить под одной шапкой Платона и отвлеченного схоласта типа Фомы Аквинского.
С другой стороны, наблюдения МакЛюэна заставляют нас обратить внимание на то, что подход блж. Августина несколько необычен, особенно в специальных трудах, таких, как "Христианская наука, или Основания Священной Герменевтики и Церковного Красноречия". Написанное в этом сочинении верно и с догматической точки зрения. Однако само отдельное попечение об искусстве Христианского оратора представляет для нас нечто необычное, особенно на фоне восточных Святых Отцов. Есть некая разница между заботой о том, что сказать – которая неотлучно преследует Святых отцов и Учителей Церкви – и заботой о том, как это сказать.
Здесь можно отметить некий оттенок мысли, когда внимание обращено не в самый центр предмета. Это тем более поразительно, что блж. Августин был человеком именно классической культуры, которая не допускала таких странностей в гуманитарной сфере. Из "Исповеди" и диалогов нам известно, как блж. Августин преподавал своим ученикам – а он был известнейшим учителем риторики своего времени. Он читал вместе с учениками классические произведения литературы и обсуждал их. В ходе неторопливой беседы, обычно в саду во время прогулки, учитель помогал ученикам толковать непонятные места разбираемых текстов, предлагал темы для обсуждения и тезисы для доказательства или опровержения. Диалог "Против Академиков" происходит в светлый (это отмечается особо) день, когда учитель с учениками пошли помочь поселянам и начинают разговор по пути домой. Затем они обедают, и, возвратившись на луг, под деревом продолжают беседу до вечера, не записывая ничего и не составляя никаких планов или конспектов.
То есть блж. Августин не излагал философию, риторику, теорию или историю литературы в систематическом виде. Он не предлагал беглого очерка предмета в схемах и таблицах. Целью этого филологического по своей форме рассмотрения было проникнуть в мысль автора, не разрушая ее, постичь идею литературного сочинения не в отдельности от формы, в какой она выражена. И до сего дня мастерство филолога требует именно такого подхода, где память и способность к организации понятий играют второстепенную роль.
В чем-то очень похожим образом обстоит дело в Христианском вероучении. В центре Христианского богословия находится Священное Писание, его понимание и толкование. И сама догматика должна считаться изложением содержания Писания, и она немыслима и не существует в отрыве от точных слов Писания.
Но здесь мы хотим ввести новую линию рассуждения в связи с риторикой. Со времен античности, а потом и до эпохи Нового времени, риторика служила способом организации материала. Произнесение наизусть продолжительных судебных и политических речей требовало запоминания огромного количества фактов. Например, адвокат в защитительной речи должен был упомянуть о событиях уголовного дела, процитировать законы в нужных случаях и в нужном порядке. Это и вызвало к жизни так называемую "искусную память".
Как пишет Френсис Йейтс в новаторской для своего времени книге "Искусство памяти": "Первое, что должен запомнить изучающий историю классического искусства памяти, – это то обстоятельство, что оно находится в ведении риторики в качестве техники, используя которую оратор мог бы усовершенствовать свою память и произносить наизусть пространные речи с неизменной аккуратностью. И именно как часть риторического искусства, искусство памяти сохранялось в европейской традиции, которая никогда, по крайней мере до сравнительно недавних времен, не забывала, что древние, эти верные наставники во всякой человеческой деятельности, разработали правила и предписания для усовершенствования памяти.
Общие принципы мнемоники усвоить нетрудно. Первым шагом было запечатление в памяти ряда мест (loci). Наиболее распространенным, хотя и не единственным, применявшимся в системах мнемонических мест, был архитектурный тип. Яснее всего этот прием изложен в описании Квинтилиана. Для того чтобы сформировать в памяти ряд мест, говорит он, нужно вспомнить какое-нибудь здание, по возможности более просторное и состоящее из самых разнообразных помещений – передней, гостиной, спален и кабинетов, – не проходя также мимо статуй и других деталей, которыми они украшены. Образы, которые будут помогать нам вспоминать речь, – в качестве примера таких образов, говорит Квинтилиан, можно привести якорь или меч, – располагаются затем в воображении по местам здания, которые были запечатлены в памяти. Теперь, как только потребуется оживить память о фактах, следует посетить по очереди все эти места и востребовать у их хранителей то, что было в них помещено. Нам следует представить себе этого античного оратора мысленно обходящим выбранное им для запоминания здание, пока он произносит свою речь, извлекая из запечатленных мест образы, которые он в них расположил. Этот метод гарантирует, что все фрагменты речи будут воспроизведены по памяти в правильном порядке, поскольку этот порядок фиксируется последовательностью мест внутри здания. Квинтилиановы примеры образов, якорь и меч, позволяют предположить, что предметом речи в одном случае были вопросы мореплавания (якорь), а в другом – вопросы военных действий (меч)".
Интеллектуальный и фактический материал привязывается в этом "искусстве памяти" к образам, к системе произвольно сочиненных образов, к целому воображаемому миру. "Искусная память состоит из мест и образов... Locus – это место, легко удерживаемое памятью, например дом, пространство между колоннами, угол, арка и т.п. Образ – это формы, знаки или подобия того, что мы желаем запомнить. Например, если мы хотим запомнить какую-нибудь лошадь, льва или орла, мы должны поместить в определенные места их образы. Искусство памяти подобно внутреннему письму. Тот, кто знает буквы алфавита, может записать продиктованное ему и прочесть то, что записано. Точно так же тот, кто изучил мнемотехнику, может расставить по местам услышанное им и затем воспроизвести это по памяти. "Ибо места весьма подобны восковым табличкам или папирусу, образы – буквам, упорядочение и расположение образов – письму, а произнесение речи – чтению" ("Искусство памяти").
Мы не рискнем прямо связать эту мнемоническую вакханалию с развитием всей интеллектуальной истории Запада, и тем более с самим блж. Августином. Но, как прекрасно показала Ф. Йейтс, от этой античности протянулись линии вплоть до эпохи Ренессанса, Раймонда Луллия, Петра Рамуса, Джордано Бруно и даже до "энциклопедистов" Бейля, Дидро и т.п.
На Востоке, в греческом мире, мы не обнаруживаем даже намеков на такую оригинальную работу фантазии в ее странной, на наш взгляд, связи с произнесением судебных и политических речей. "Риторика" Аристотеля или его же "Поэтика" - не школьные учебники, и не самоучители, а рассмотрение и этих предметов в свою очередь тоже по их существу.
Поэтому, смеем предположить, из среды восточного Православия не могла появиться такая книга, которая бы содержала не само Церковное учение, а лишь способ церковного учения. Восточные Святые отцы учились красноречию и изучали литературу, как св. Иоанн Златоуст у величайшего оратора того времени Либания. Но как, например, выделить способ произнесения проповеди из самой проповеди св. Иоанна Златоуста, как отделить слова и конструкции от содержания и смысла слов? Это невозможно, ибо было бы насилием над смыслом, и, в не меньшей степени, – над формой.
Даже всеобъемлющий свод св. Иоанна Дамаскина, содержащий в себе "Диалектические и философские главы", "Точное изложение православной веры", и "Описание ересей", рассматривает все вопросы только с точки зрения существа, а не методики. Отделяя способ изложения Истины от Самой Истины, мы ставим ее в зависимость от человеческого понимания или непонимания. На самом же деле высочайшее достоинство истины не уменьшается даже тогда, когда все уклонились, сделались равно непотребными (Пс. 13:3), когда Праведник вздыхает: "Разорили закон Твой, Господи! Время Тебе Самому действовать; человеческие усилия тут уже не помогут" (Пс. 118:126, по изложению св. Феофана Затворника).
Ведь и методику можно рассматривать теоретически, а можно оперативно – как способ управлять людьми. И теория, в свою очередь, не бесполезна – она учит управлять собой в согласии с Божиим законом: Вразуми мя и испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим (Пс. 118:34).
Еще В. фон Гумбольдт отметил, что потребность быть понятым вынуждает обращаться к уже наличествующему, понятному ("О сравнительном изучении языков применительно к различным эпохам их развития"). Поэтому, согласно другому выдающемуся филологу - Г.О. Винокуру, истинной задачей филологии является "познание познанного, познание того, что уже создано наперед человеческим духом". "Филолог не должен философствовать как Платон, но понимать Платона обязан, при чем вовсе не только как произведение словесного искусства, со стороны формы, но также и со стороны содержания. Точно так же филолог не может заниматься физическими опытами и рассуждениями, но сочинения исследователей природы составляют все-таки объект филологии... не создание чего-либо, не "продуцирование" входит в задачи филологов, а только познание созданного, "продуцированного" ("Введение в изучение филологических наук").
Это не имеет ничего общего со способностью софистов говорить, о каком угодно предмете.
От этой основы на том, что уже понято и изложено филология обретает свою цельность: содержит в себе и идею, и форму, и метод – нераздельно друг от друга, так что в языке, согласно В. фон Гумбольдту, в абсолютном смысле в языке не может быть материи без формы. Если нет материи без формы, то не существует и голой формы без материи.
_________
Разбирая статьи МакЛюэна, мы извлекаем некоторую пользу, потому что спрашиваем: прав ли он. Он ошибается, и ошибается во многом, но правда все равно существует, и ее-то мы и находим, задавая правильные вопросы.
Знали ли Святые Отцы методику изучения Священного Писания? Знали. Знали они о методике изложения Христианского учения? Тоже знали. Но они знали не отдельно от смысла произносимого и неотделимо от текста.
Св. Марку Эфесскому на Флорентийском Соборе пришлось возражать католикам, которые выдвигали толкования блж. Августина в качестве альтернативы толкованию св. Иоанна Златоуста. Св. Марк разбирает слова блж. Августина и говорит: "Видите ли, как поверхностно касаются смысла ваши Учители, и как они не вникают в смысл его, как вникают, например, Златоязычный Иоанн и св. Григорий Богослов и прочие всемирные светила Церкви" ("Первое слово об очистительном огне").
Св. Марк не видит ничего неправильного в самом существовании различных толкований, но он категорически отвергает возможность того, чтобы разные толкования одинаково точно излагали мысль Писания. Поэтому исследующий мысль Священного Писания должен оценить, какое из толкований лучше. И тут св. Марк Эфесский указывает главный критерий точности толкования – его как бы полное совпадение с телом толкуемого текста. Совершенное толкование есть прямое продолжение изучаемого текста.
Св. Иоанн Златоуст следует "по порядку и последовательно мысли Апостола, и не выделяет из текста отдельные изречения, толкуя их отдельно самих по себе, но из самих основ и начала в соответствии с мыслью Апостола дает полное и представляющее целое, как одно тело, толкование". Следовательно, его толкование является наилучшим.
Такое совпадение со словом и смыслом Писания является целью всей внутренней жизни христианина. Как выражает это св. Иоанн Златоуст: "Старайтесь сохранить в памяти, что вам предлагается из Писания в разные дни, составляйте из этого как бы одну цепь и облагайте ею душу, чтобы таким образом вышло целое тело Писаний" ("Толкование на св. Матфея Евангелиста"). Здесь перед христианином ставится задача вместить Писание в самого себя, совместить его с душой во всей целостности.
Давайте взглянем с этой стороны на сочинение блж. Августина. Для христиан и христианских ораторов "Христианское учение" может быть полезным. Но беда в том, что, как показывает МакЛюэн, его можно использовать и в чисто техническом плане, сопоставляя, допустим, с энциклопедистами, Вольтером и т.п. Познавательный партикуляризм, выявленный МакЛюэном в западной мысли, позволяет пользоваться трудом блж. Августина и людям неверующим и даже воинствующим атеистам.
Здесь, как представляется, разошлись исторические пути Западной и Восточной европейских цивилизаций. Из блж. Августина могло вырасти древо европейской политики и культуры. Из св. Иоанна Златоуста – не могло. Св. Иоанн Златоуст не мог бы быть положен в основу современного общества, государства и культуры, хотя бы и "восточных" в географическом смысле. И это в превосходной степени положительный факт, который только и может соответствовать высоте и неотмирности Христианского учения. Св. Иоанна Златоуста, как и других Святых, как Саму Христову Церковь невозможно употребить для иных нужд кроме спасения людей, кроме научения их небесным истинам, кроме воспитания граждан Града Божия. Если же град человеческий и извлекает пользу от присутствия в нем христиан, как благочестивых, мирных и законопослушных граждан, то это польза не достойна и упоминания рядом со спасение души в благой вечности.
В современном человечестве происходит внутренняя борьба с мыслью о полной бесполезности теоретических воззрений. И это вызывает в церковных модернистах стремление не мытьем, так катаньем найти пользу в догматике. Об этом в 1911 году писал будущий священномученик еп. Виктор Глазовский. Он утверждал, что модернисты "пытаются показать, что догматы Христианского вероучения нужны для жизни человека не потому, что в совокупном содержании их дана миру великая истина Божьего спасения мира, а потому что каждый из них, будто бы, может служить в качестве начала возбуждающего и укрепляющего в человеке его инстинктивное влечение к добру. Отсюда у преосвященных богословов являются потуги мысли отыскать какие-либо "нравственные идеи", заключающиеся в догматах Церкви, и тем показать, так сказать, жизненную необходимость сих догматов в деле нравственного развития человека" ("Новые богословы").
У догматики иное назначение и другая польза – тоже в свою очередь идеальная. И невидение этой истины равнозначно неверию в нее.
Поэтому справедливо судил сщмч. Виктор: "Не имея в себе достаточно силы принять тайну Христова пришествия в мир, как точно определенное историческое дело Божьего спасения человека, как известный момент, цена которого в нем самом, как таковом,- новые богословы усиливаются осмыслить Христианство другим путем, а именно путем приспособления отдельных догматов Христианского вероучения к духовной жизни человека. Вместо того, чтобы твердо и смело судить всю настоящую жизнь истиной учения о совершенном Божием спасении мира, они осмысливают эту истину ее возможной пригодностью, полезностью для жизни человека".
А раз так, то полезной, хотя бы отчасти, может быть и ложная теория. И мы действительно находим эту мысль в одном из сочинений С. Кара-Мурзы, где он объясняет: "Как говорится, даже ошибочная теория лучше, чем никакой. Если есть теория, можно формулировать вопросы и ставить эксперименты (хотя бы мысленные)". Конечно, М. МакЛюэн – это не красный "системный аналитик", и он понимал, что ложная теория бесконечно хуже, нежели ее отсутствие. Теория не просто указывает путь к Истине. Теория – это знание самой истины, и поэтому целый мир сразу. И вопрос стоит лишь о том: действительный это мир или мнимый, воображаемый. Если это мир ложный, то в нем ничто не находится на своем месте, в нем ложно все. Только если мы вступим в сферу релятивизма и риторической убедительности, мы сможем получать пользу и от ложных "теорий". Это объясняет отчасти такое богатство книжное и идейное, каким Запад отличается от православного Востока. Ведь ясно, что ложных в своем существе концепций может быть бесконечно много.

- Константин Леонтьев
Православные славяне или греки так и не обрели до сего дня способности создавать такие схемы, которые бы проливали свет на действительность, будучи неверными в своем основании. Прекрасный пример здесь – это теория "триединого процесса" К.Н. Леонтьева. Он считал, что каждая великая цивилизация переживает три необходимые стадии: 1) простота; 2) расцвет, или "цветущая сложность"; и 3) вторичное упрощение, смешение. После этого цивилизация погибает. Будь Леонтьев западным мыслителем, он бы представил это как примерную схему, нужную только для истолкования событий русской истории. Но он не мог преодолеть себя, и представить эту схему как приблизительную и примерную. В его изложении она непреодолимо приобрела форму метафизической, абсолютно истинной концепции.
В России никогда не соревновались между собою разные риторические системы. Поэтому в наших условиях любая условная "система" сразу действует бесконечно разрушительно, поскольку сталкивается не с другими схемами, а с концепциями, привязанными к абсолютной истине. Достаточно вспомнить "диалогическую" теорию М. Бахтина, которая прошла как ураган в отечественной филологии. Характерно, что и здесь М. Бахтин не мог предложить просто условную схему. Для него было важным, что и самим содержанием его учения является то, что произведение искусства может не содержать одной истины, а предлагать несколько истин в "диалоге". То есть, чтобы изложить условную схему, Бахтин делает условность – самим содержанием своей теории.
Его система в своем роде оказалась непобедимой, с ней, во всяком случае, невозможно спорить. Ведь корень его ошибки не в том, прав он или нет, а в том, что он на правду и не претендует.
Или приведем еще один емкий пример из многотомной Католической энциклопедии, где основательнейшая статья о свободе воли уведомляет, что в Католической Церкви существуют две школы с различным учением по этому вопросу: томистская и молинистская. И, следовательно, вопрос о соотношении свободы воли и Всеведения Божия остается "нерешенным".
В данном случае это тем более странно, что этот вопрос не может оставаться нерешенным, поскольку непосредственно связан с учением о грехе, о суде.
Мы, однако, понимаем, учитывая сказанное выше, что Католицизм воспринимает своих членов находящихся в движении, плывущих на "Корабле веры". Православные христиане, разумеется, признают, что движутся внутри истории и своей частной жизни – к суду и вечной жизни, но при этом помнят, что не движутся сами понятия. Оправданием служит само движение в порядке, но для догматического сознания, которое взирает на неподвижные истины веры – это никакое утешение.
Поэтому можно сказать, что Запад не зря хвалится непрерывностью своего развития от древности, через блж. Августина, средневековых схоластов и до наших дней. Только это сомнительное достоинство. Ведь и у блж. Августина оказалась воспринята и передана не Христианская суть его воззрений, и даже не форма, а способ передавать форму.
Это же относится и к тому способу, каким блж. Августин изобразил историю человечества. Он как бы протянул невидимые линии – в будущее. И он, будучи Христианским философом и учителем Церкви, провел линию от создания мира, через грехопадение, через Первое Пришествие - ко Второму Пришествию. Но эти линии западная мысль "перековала" на "рельсы в будущее", превратила в идею земного прогресса.
Так и в либерально-демократическом обществе достигнуто единодушное подчинение людей и согласных, и несогласных. Так современное образование стремится научить знающих и незнающих, хотящих знать и не хотящих, символом чего является "Болонский" процесс, ставящий во главу угла не знания, а общий и равный доступ к знаниям.
Такое направление политики и идеологии Нового времени нарушает запрет, заложенный в существо человека, запрет на знание без знания, без со-знания. Христианскую же Истину тем более невозможно познать без веры и желания знать. Потому что знать без веры – значит знать вопреки вере.
_________
Обращаясь к схеме МакЛюэна, мы предлагаем взглянуть сквозь ее призму на современное положение православных СМИ и модернистского миссионерства. Различие между "схоластами" и "софистами" не могло бы проявляться резче, нежели в современной российской православной среде! Одни – как о. Кураев и о. Кочетков – пребывают в бесконечных заботах о методике, о способах миссионерства, о самом этом миссионерстве в его теоретическом, историческом, практическом планах. Ведь вся система секты о. Кочеткова в методике и состоит. Это овеществленная методика, как впрочем и секта сайентологов.
Вооруженные своими методиками, наши отечественные модернисты намереваются извлечь пользу и от рок-музыки, и от поп-культуры, и от "Гарри Поттера". Модернисты заботятся исключительно о том, как, кому и когда сказать, принципиально подавляя и выводя за пределы сознания вопросы о сути. Для них проповедь – это метод, а метод – это всё. Тогда как, конечно, христианская проповедь – это именно "что", не жанр, а смысл.
Наряду с этим есть отвлеченные теоретики, вроде еще читаемого кем-то Семена Франка, Вл. Соловьева, о. Сергия Булгакова. Из новейших назовем бесславную когорту: В. Лурье, Г. Беневича, А. Шуфрина и других.
Отдельно от этой битвы стоят ревнители Святоотеческого Предания, ревнующие о содержании Христианского учения. Хотя, на фоне титанической борьбы схоластов с риториками, можно лишь у